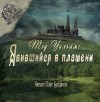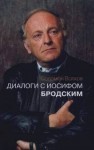Мои цитаты из книг
– Здравствуйте, товарищ заведующий!
– Здравствуй. Иди сюда. Ты ведь человек ленинградский, всякие дворцы видел. Как тебе нравится сборочный цех?
– Вот этот сарай?
– Это стадион, – повторил Виктор.
Соломон Давидович произнес спокойно:
– Пускай себе сарай, пускай себе стадион, зато в нем можно работать.
Игорь спросил:
– А он не завалится?
Блюм возмутился так серьезно, как будто он давно знал Игоря и обязан был считаться с его мнением:
– Вы слышите, что он говорит: завалится! Волончук, он завалится или не завалится?
Скучный, нескладный, состоящий из каких-то мускульных узлов инструктор Волончук – правая рука Соломона Давидовича – ответил невозмутимо, определяя судьбу стадиона с завидной беспристрастностью:
– С течением времени должен завалиться, но нельзя сказать, чтобы скоро.
– Через год завалится?
– Через год? – Волончук внимательным взглядом присмотрелся к стадиону. – Нет, через год он не завалится. Другое дело, если, скажем, дожди большие пойдут.
Блюм закричал на него:
– Кто вас про дожди спрашивает. Когда был Ной и пошли большие дожди, так все на свете завалилось. Когда человек строится, так он не может ориентироваться на всемирный потоп, а ориентируется на нормальную погоду.
30-е годы XX века. Дороги беспризорников сходятся в трудовой колонии имени Первого мая. Общая жизнь меняет их характеры и превращает в достойных граждан молодой Советской Республики. Книга основана на опыте работы Антона Семеновича Макаренко в колонии имени Ф.Э.Дзержинского. Антон Семёнович Макаренко был не только выдающимся педагогом, но и, бесспорно, талантливым писателем. В ненавязчивой форме, лаконично и деликатно в книге обрисованы непростые судьбы нескольких "детей улицы", впоследствии...
«Среди нас есть люди, которые считают: дисциплина — это хорошо, это приятная вещь. Но так только до тех пор, пока все приятно и благополучно. Чушь! Не бывает такой дисциплины! Приятное дело может делать всякий болван. Надо уметь делать неприятные вещи, тяжелые, трудные.»
30-е годы XX века. Дороги беспризорников сходятся в трудовой колонии имени Первого мая. Общая жизнь меняет их характеры и превращает в достойных граждан молодой Советской Республики. Книга основана на опыте работы Антона Семеновича Макаренко в колонии имени Ф.Э.Дзержинского. Антон Семёнович Макаренко был не только выдающимся педагогом, но и, бесспорно, талантливым писателем. В ненавязчивой форме, лаконично и деликатно в книге обрисованы непростые судьбы нескольких "детей улицы", впоследствии...
Старое — страшно живущая вещь. Старое пролезает во все щели нашей жизни и очень часто настолько осторожно, умненько выглядывает из этих щелей, что не всякий его заметит.
30-е годы XX века. Дороги беспризорников сходятся в трудовой колонии имени Первого мая. Общая жизнь меняет их характеры и превращает в достойных граждан молодой Советской Республики. Книга основана на опыте работы Антона Семеновича Макаренко в колонии имени Ф.Э.Дзержинского. Антон Семёнович Макаренко был не только выдающимся педагогом, но и, бесспорно, талантливым писателем. В ненавязчивой форме, лаконично и деликатно в книге обрисованы непростые судьбы нескольких "детей улицы", впоследствии...
Только недавно он сам освободился от самого главного «педагогического порока»: убеждения, что дети есть только обьект воспитания. Нет, дети — это живые жизни, и жизни прекрасные, и поэтому нужно относиться к ним, как к товарищам и гражданам, нужно видеть и уважать их права и обязанности, право на радость и обязанность ответственности.
30-е годы XX века. Дороги беспризорников сходятся в трудовой колонии имени Первого мая. Общая жизнь меняет их характеры и превращает в достойных граждан молодой Советской Республики. Книга основана на опыте работы Антона Семеновича Макаренко в колонии имени Ф.Э.Дзержинского. Антон Семёнович Макаренко был не только выдающимся педагогом, но и, бесспорно, талантливым писателем. В ненавязчивой форме, лаконично и деликатно в книге обрисованы непростые судьбы нескольких "детей улицы", впоследствии...
Если бедняк верит на свой лад — это одно дело, но когда вельможа с деньгами, землями и громким именем начинает исповедовать собственную веру, влиятельные лица видят в этом угрозу.
История лорда Сулиса, последнего в своем роду, который пытался разгадать тайны, лежащие в основе религии Остен Арда.
Разозлить церковника — все равно что наступить на змею.
История лорда Сулиса, последнего в своем роду, который пытался разгадать тайны, лежащие в основе религии Остен Арда.
Что ж, для поэта разочарование - это довольно ценная вещь. Если разочарование его не убивает, оно делает его действительно крупным поэтом. На самом деле чем меньше у тебя иллюзий, тем с большей серьезностью ты относишься к словам.
"Диалоги с Бродским" - книга для русской литературной культуры уникальная. Сам Волков пишет в авторском предисловии об экзотичности для России этого жанра, важность которого, однако, очевидна. Единственный известный автору этих страниц прямой аналог - записи обширных разговоров с Пастернаком - блестящая работа Александра Константиновича Гладкова. Но она, как мы увидим, принципиально отлична от "Диалогов".
Прежде всего имея в виду ее синтаксическую беспрецедентность, позволяющую – скорей, заставляющую – ее в стихе договаривать все до самого конца. Кальвинизм в принципе чрезвычайно простая вещь: это весьма жесткие счеты человека с самим собой, со своей совестью, сознанием. В этом смысле, между прочим, и Достоевский кaльвиниcт. Кальвинист – это, коротко говоря, человек, постоянно творящий над собой некий вариант Страшного суда – как бы в отсутствие (или же не дожидаясь) Всемогущего. В этом смысле второго такого поэта в России нет. (...) Цветаева – вовсе не бунт. Цветаева – это кардинальная постановка вопроса «голос правды небесной против правды земной».(...) Речь идет действительно о суде, который страшен уже хотя бы потому, что все доводы в пользу земной правды перечислены. И в перечислении этом Цветаева до самого последнего предела доходит; даже, кажется, увлекается. Точь‑в‑точь герои Федора Михайловича Достоевского. Пушкин все‑таки, не забывайте этого, – дворянин. И, если угодно, англичанин – член Английского клуба – в своем отношении к действительности: он сдержан. Того, что надрывом называется, у него нет. У Цветаевой его тоже нет, но сама ее постановка вопроса а ля Иов: или‑или, порождает интенсивность, Пушкину несвойственную. Ее точки над «е» – вне нотной грамоты, вне эпохи, вне исторического контекста, вне даже личного опыта и темперамента. Они там потому, что над «е» пространство существует их поставить. (...) Время – источник ритма. Помните, я говорил, что всякое стихотворение – это реорганизованное время? И чем более поэт технически разнообразен, тем интимнее его контакт со временем, с источником ритма. Так вот, Цветаева – один из самых ритмически разнообразных поэтов. Ритмически богатых, щедрых. Впрочем, «щедрый» – это категория качественная; давайте будем оперировать только количественными категориями, да? Время говорит с индивидуумом разными голосами. У времени есть свой бас, свой тенор. И у него есть свой фальцет. Если угодно, Цветаева – это фальцет времени. Голос, выходящий за пределы нотной грамоты. (...)Вы знаете – и да, и нет. Конечно, по содержанию – это женщина. Но по сути… По сути – это просто голос трагедии. (Кстати, муза трагедии – женского пола, как и все прочие музы.) Голос колоссального неблагополучия. Иов – мужчина или женщина? Цветаева – Иов в юбке.
"Диалоги с Бродским" - книга для русской литературной культуры уникальная. Сам Волков пишет в авторском предисловии об экзотичности для России этого жанра, важность которого, однако, очевидна. Единственный известный автору этих страниц прямой аналог - записи обширных разговоров с Пастернаком - блестящая работа Александра Константиновича Гладкова. Но она, как мы увидим, принципиально отлична от "Диалогов".
Вообще-то в жизни нет ничего плохого, единственно что в ней плохо — это предсказуемость, по-моему.
"Диалоги с Бродским" - книга для русской литературной культуры уникальная. Сам Волков пишет в авторском предисловии об экзотичности для России этого жанра, важность которого, однако, очевидна. Единственный известный автору этих страниц прямой аналог - записи обширных разговоров с Пастернаком - блестящая работа Александра Константиновича Гладкова. Но она, как мы увидим, принципиально отлична от "Диалогов".
У жизни просто меньше вариантов, чем у искусства, ибо материал последнего куда более гибок и неистощим. Нет ничего бездарней, чем рассматривать творчество как результат жизни, тех или иных обстоятельств. Поэт сочиняет из-за языка, а не из-за того, что «она ушла». У материала, которым поэт пользуется, своя собственная история – он, материал, если хотите, и есть история. И она зачастую с личной жизнью совершенно не совпадает, ибо – обогнала ее. Даже совершенно сознательно стремящийся быть реалистичным автор ежеминутно ловит себя, например, на том, что «стоп: это уже было сказано». Биография, повторяю, ни черта не объясняет.
"Диалоги с Бродским" - книга для русской литературной культуры уникальная. Сам Волков пишет в авторском предисловии об экзотичности для России этого жанра, важность которого, однако, очевидна. Единственный известный автору этих страниц прямой аналог - записи обширных разговоров с Пастернаком - блестящая работа Александра Константиновича Гладкова. Но она, как мы увидим, принципиально отлична от "Диалогов".